Представим, что где-то в земле Северный Рейн-Вестфалия есть живописное поле. Вообразим его в теплое время года, возможно, летом или поздней весной, когда все вокруг пышет жизнью. Поле полно зелени, трава его высока, почти по колено, а вдалеке темнеет лес, возвышаясь над полем кулисами. Солнце висит высоко в бескрайнем голубом куполе неба, а мы стоим на дорожке, трава вдоль нее скошена, упрощая путь. Дорожка ведет к башнеобразной постройке бежевого оттенка — который, будь сейчас осень, сливался бы с охристыми оттенками окружающего поля. Стены постройки гладки, и единственное, что нарушает их горделивую замкнутость, — металлический треугольник, который оказывается дверью, когда мы подходим ближе. Выясняется, что перед нами — Часовня Брата Клауса, которую в 2007 году спроектировал Петер Цумтор. Строили ее местные фермеры. Примечательно, что в качестве опалубки для будущих бетонных стен они создали своеобразный шалаш из цельных стволов местного же дерева. Мы открываем треугольную дверь и оказываемся внутри. Здесь темно. Стены сложены из черных от огня древесных стволов. Мы поднимаем голову и замечаем, что где-то там наверху все эти стволы — скобками, запятыми, загогулинами, собираются в форму, напоминающую воздушный шар. В ней ничего нет — это отверстие, через которое в часовню попадает свет. Мы смотрим на световое пятно, но видим не только его, но и выжженную неидеальность стен внутри, их идеальную фактуру снаружи, и блеск треугольной двери, и лес вдалеке, и каждую травинку в полном зелени поле, и, наконец, бескрайнее небо над нами.
Читаем с Grazia: как современная архитектура испытывает идею пограничья
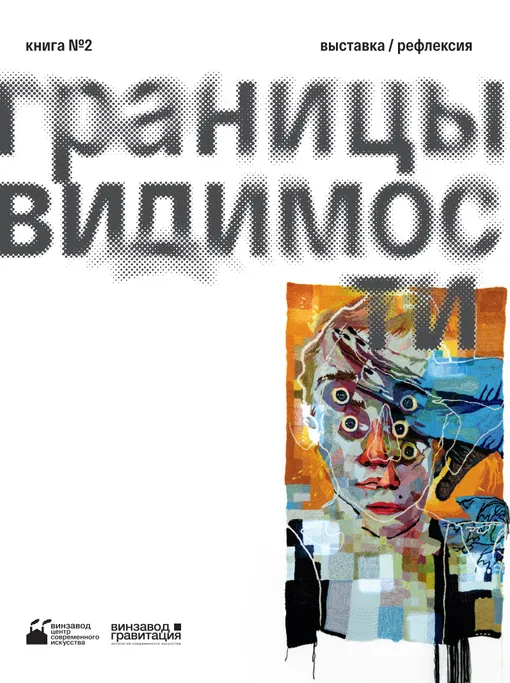
Что помогает нам видеть все это? Периферическое зрение.
Причем здесь Петер Цумтор, — может возразить нам читатель, — его часовня построена вокруг темы диалога с вечным, диалога со светом? Почему именно Петер Цумтор, — спросит другой читатель, — если в арт-парке Никола Ленивец слева за «мозгом» «Вселенского разума» Николая Полисского есть не менее похожее по смыслу сооружение, цилиндрическая деревянная башня без крыши, в которой посетитель попадает в аналогичную ситуацию диалога с вечным? Оба читателя будут правы, поскольку и их вопросы, и само сооружение Цумтора подводят к главной проблеме: теме (зрительного) восприятия окружающего пространства, зрения и смотрения в архитектуре. Здесь может возникнуть вопрос, как вообще можно смотреть на архитектуру: снаружи, изнутри или, может быть, с большого удаления? Все эти методы смотрения равноценны, являются частью одного процесса, который можно дробить сколько угодно на уровни, но он все равно целен.
Вопросы о смотрении и зрении, как видеть и воспринимать, и как это происходит, давно выступают предметом философской мысли. Для Петера Цумтора эти вопросы в их применении к архитектуре не отделимы, например, от понятия атмосферы. Именно атмосфера для него стала центральным источником ощущения, которое создает архитектурное творение при взаимодействии человека с ним1. Тема атмосферы как совокупности ощущений от предмета, получаемых визуально, аудиально и кинестетически, — это и аура Вальтера Беньямина, и творчество Уильяма Тернера, который прямо говорил, что его стиль — атмосфера.
Атмосфера, таким образом, неотделима от пространства, а пространство неотделимо от атмосферы. Тема пространства, в свою очередь, известна как предмет интереса множества ученых от Мартина Хайдеггера до Гастона Башляра и далее. К примеру, у Хайдеггера пространство — это и не внешний объект, и не внутренний опыт... пространства открываются посредством того, как они включаются в «обитание» (dwelling) человека2. Развивая мысль Хайдеггера, финский архитектор и теоретик Юхани Палласмаа говорит, что когда человек входит в пространство, пространство входит в человека, и весь опыт их взаимодействия — это опыт обмена и смешения объекта и субъекта3. Тут неизбежно возникает вопрос, как зритель воспринимает тот или иной объект в пространстве и само пространство.
Действительно, мы воспринимаем здание или градостроительный комплекс бессознательно, моментально. Что отличает человеческий глаз от фотокамеры? Камера отрезает часть пространства, заключая его в рамки конкретного кадра. Она никогда не сможет передать то, что осталось за пределами кадра, ибо человеческий взгляд воспринимает сразу все, осознает примерные размеры пространства и взаимоотношения предметов в нем, создает картину присутствия человека и, как у Хайдеггера, присутствия пространства в человеке. Петер Цумтор и Николай Полисский в упомянутых объектах, помещающих человека в ситуацию диалога со светом и небом, равно как и Даниэль Либескинд, играющий с темой пустоты (void) в Еврейском музее Берлина, апеллируют именно к этому: сенсации неба, с одной стороны, и важности периферического зрения, с другой.
Юхани Палласмаа приводит слова Мориса Мерло-Понти, что [глядя на произведение искусства] мы смотрим не столько на само произведение, но на мир с точки зрения этого произведения4. Подобная точка зрения оказывается для него крайне уместной для общения с геометрической и лирической абстракцией, с кубизмом и импрессионизмом, создающими неперспективное пространство, главное качество которого — его атмосфера.
Периферическое зрение оказывается важным в любых архитектурных пространствах, воспринимающих посетителя, зрителя как творца, приглашающих его к сотворчеству. Это может быть Никола Ленивец, где объекты рассыпаны по лесам и полям не менее живописным, чем те, где стоит часовня Цумтора, это может быть и парижский парк Ла-Виллетт Бернара Чуми, отрицающий в своей концепции возможность какой-либо центральной точки зрения.
К периферическому зрению обращается не только круглое отверстие в крыше башни, через которое зритель видит небо и одновременно осознает значимость и присутствие всего, что находится за пределами этого окулюса, не только Ля-Вилетт с его отсутствием центра или пустоты Еврейского музея. В некотором смысле, идеальным примером важности иного и периферии, оказывается переулок (sideway/alleyway), часто выступающий местом действия в американском кино. Именно здесь, в сырости, среди мусорных баков, на изнанке парадных фасадов небоскребов, как правило, и случаются все важные события в фильмах.
Если же мы перенесемся из области трактовки зрения в архитектуре как физиологического механизма восприятия в область понимания, ведения (в интерпретации «Зорведа» Михаила Матюшина) точки зрения на архитектуру как дисциплину, то проблема периферии повернется новыми гранями. Большим переменам в философской и научной парадигмах, произошедшим в западной культуре во второй половине 1960-х, сопутствовал и кризис в архитектурной практике, требующий критического пересмотра архитектурной теории. Из всей полемики «лингвистического поворота», пожалуй, именно концепция деконструкции Жака Деррида наиболее серьезно затронула проблему периферии. Она проникла в эпистему нашего времени, повлияв на нынешние эстетические и этические ориентиры, выходя далеко за пределы чистой философии, искусства и архитектуры.
Именно периферическое — добавочное, суплементарное — выдвигается в фокус философии Жака Деррида, становится предметом анализа и поиска скрытого: интенций, «полной картины», или истины. За ним следуют и архитекторы-деконструктивисты. Внимание к периферии, маргинальному, пограничному дает нам больше, чем рассмотрение центрального и главного, возникшего в результате наслоения предубеждений, которые нужно «отслоить» в духе хайдеггеровской деструкции. Четкие определения, дефиниции и границы лишь способствуют возникновению предубеждений и тормозят познавательный процесс. Под сомнение ставятся устоявшиеся в архитектуре оппозиции — форма и функция, внешнее и внутреннее, масса и пространство. Сама дисциплина архитектуры как согласованная и четкая система, опирающаяся на свод правил и неприкосновенных постулатов, подвергается жесточайшей ревизии.
Так, в серии эссе «Архитектура и границы» Бернар Чуми, вероятно, наиболее чутко из всех деконструктивистов понимающий Деррида, выводит в принцип работу на границах современных ему архитектурных идеологий (формализма, функционализма, рационализма)6. В качестве метода он предлагает дизъюнкцию, развертывание в архитектурной практике трансформаций, ведущих к разрушению синтеза и тотальности, поддержанию состояния противоречия и конфликта между архитектурными оппозициями. Дизъюнкция, которую Чуми сопоставлял с авангардной практикой, «запускает динамические силы, которые распространяются на всю архитектурную систему, подрывая ее границы и предлагая новое определение».
Парк Ла-Виллет в Париже (1984–1987) стал материальным воплощением теоретических идей Чуми. Его план основан на суперпозиции, или наложении друг на друга, трех автономных систем: точек (павильонов «фоли»), линий (тропинок и дорог) и поверхностей (озелененных пространств). Сами по себе эти структуры логичны, восходят к модернистской системе: планировочная сетка, координатные оси, случайная кривая (кинематографический променад). Однако все три структуры автономны, и в результате производят не согласованное единое целое, а сложное взаимодействие независимых элементов. Вместо синтеза перед нами — дезинтеграция, тотальность разрушается и уступает место неопределенности. Единственное связующее весь ансамбль звено — «кинематографический променад», трехкилометровая открытая галерея, прогулка по которой раскрывает парк как ряд отдельных кадров, связанных между собой по принципу монтажа в духе теории Сергея Эйзенштейна. Взгляд посетителя не в состоянии нащупать центр ансамбля и воспринимает окружающее пространство как поток разрозненных визуальных фрагментов, беспощадное разрушение идеи единства архитектурного произведения.
Триумф периферического зрения как метода общения с архитектурным памятником очевиден и в Мемориале жертвам Холокоста в Берлине, построенного Питером Айзенманом в 2000–2005 — что любопытно, проекте «пост»-деконструктивистского периода Несколько тысяч бетонных плит, расположенных на регулярной планировочной сетке, не предполагают конкретного центра ансамбля, не требуют внимательного всматривания. Их монотонное чередование нацелено равно как на неспешную прогулку, так и на быстрое движение мимо. Оно приветствует рассеянный, беглый взгляд — даже его достаточно для считывания сообщения. Легкое прочтение памятника становится возможным именно за счет периферического зрения, позволяющего охватить все пространство, уловить множественность единообразных объектов и считать его код, которым здесь выступает образ кладбища так же, как и мемориала.
Возвращаясь к феномену периферии в архитектуре, вспомним и относительно недавнюю теоретическую работу Питера Айзенмана. В книге «Десять канонических зданий» он пересматривает понятие канонического, приходя к выводу, что подобными сооружениями становятся именно те, что нарушают или раздвигают границы устоявшегося архитектурного канона. Таким образом, маргинальные, находящиеся на границах конвенций постройки и становятся главным толчком к развитию архитектуры. А чувствительность к частностям, другому, иному, прежде подавляемому однополярным восприятием мира и вытесняемому на периферию, закладывается в основу новой этики.
