Предо мной небольшая книга Мишеля Монтеня «Об искусстве жить достойно. Философские очерки». Она вышла в свет в 1973 году в издательстве «Детская литература» с весьма непривычным для нашего времени указанием адресата — «для старшего возраста». В предисловии к этой книге приведены слова Александра Ивановича Герцена о том, что с именем Мишеля Монтеня связано «особое, практически-философское воззрение на вещи, не наукообразное, не имеющее произнесенной теории, не покоренное ни одному абстрактному учению, ничьему авторитету, — воззрение свободное, основанное на жизни, на самомышлении. Оно ясно, человечно и светло».
Читаем с Grazia: в чем заключается искусство жить достойно
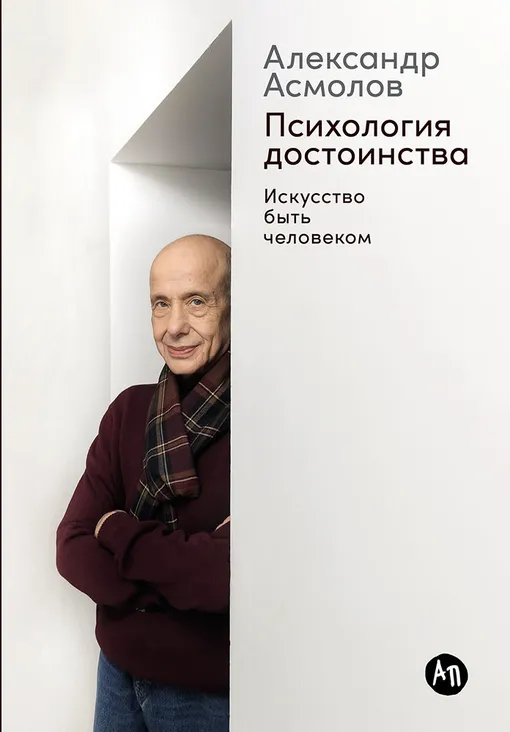
Обыкновенное чудо — самостоянье человека
Вряд ли можно сказать точнее и проще о самой сути искусства жить достойно, культуры достоинства и ремесла педагогики достоинства.
Исторически целые народы и отдельные люди раз за разом проходят через испытания, выбирая между освоением практик очеловечивания и подчинением технологиям расчеловечивания, между цивилизацией и варварством, путем к свободе и бегством от свободы, между сложностью и архаикой, разнообразием и серостью, свободомыслием и безмыслием, открытой социальной системой и самоизоляцией.
С этими жизненными выборами сталкивается почти каждая личность, каждая стран а. И всякий раз, как об этом писал сказочник Евгений Шварц, одержать победу над драконом внутри себя, пожалуй, не менее сложно, чем сразить нападающих извне драконов тоталитарных и авторитарных культур.
В этом выборе (по-своему преображающем гамлетовский вопрос «Быть или не быть?») я ищу точку опоры в словах Александра Сергеевича Пушкина: «Самостоянье человека, залог величия его».
Педагогика достоинства — это педагогика овладения культурными практиками очеловечивания и сопротивления манипулятивным практикам обезличивания и зомбирования. Чтобы прочувствовать азбуку этой педагогики, можно, например, окунуться в фильмы, созданные Марком Захаровым по мотивам пьес Евгения Шварца «Дракон», «Обыкновенное чудо» или по сценарию Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен».
Дразнящее слово «толерантность»
Слово «толерантность» давно вышло из моды. Одни произносят его с иронией, другие с раздражением, третьи с равнодушием. Упоминание толерантности у многих вызывает агрессию и воспринимается как красная тряпка разъяренным быком. И все же это единственный путь, идя по которому человечество на вопрос «Быть или не быть?» сможет ответить: «Быть!»
Толерантность часто понимают как терпимость, но это не так. Толерантность — это ценностная норма поддержки разнообразия в жизни и культуре.
Те или иные неудачи политиков, например не срабатывающие подходы к проблемам миграции, перегибы политкорректности, — это неудачи политики конкретного государства и конкретных идеологических конструкций, но это не крах идеи толерантности.
Приведу, наверное, не очень удачный, но понятный пример. После чернобыльской катастрофы все стали говорить о необходимости прекращения исследований в области ядерной энергетики. Армения, закрывшая на волне этих впечатлений свою атомную электростанцию, вскоре столкнулась с отчаянным дефицитом энергии. Это привело к резкой экономической деградации, а следом к деградации социальной и политической. Через семь лет станцию запустили вновь, но последствия того решения отзываются до сих пор в государственных неудачах и социальных кризисах.
Означает ли та или иная технологическая катастрофа, что мы должны отказываться от технологического развития? Нет. Это означает, что мы должны здраво смотреть на вещи и двигаться в том направлении, которое открывает новые перспективы.
Культура толерантности — это, по определению, культура переговоров между различными людьми и, так или иначе, понимание разных интересов и нахождение баланса этих интересов. И это именно то, что трансформирует общество к лучшему, развеивает атмосферу ненависти, уменьшает уровень невротизма и приводит к психологическому оздоровлению общества.
Толерантность противоположна ксенофобии с ее установкой на уничтожение любой инаковости. Ксенофобия обеспечивает размножение агрессивных моделей поведения, которые еще не раз ударят по всему обществу — и по «чужим», и по «своим».
Многообразие типичного
Передо мной лежат две книги психолога и культурного антрополога Марии Тендряковой: «Многообразие типичного: Очерки по культурно-исторической психологии народов» и «Охота на ведьм: Исторический опыт интолерантности». Первая из них представляет собой путеводитель для путников в ментальные миры иных культур, иных цивилизаций, иных логик репрезентации различных картин и моделей мира.
Мифы, сказки, утопии, фантастические романы, рисующие встречи с иными разумами, то обожествляют, то демонизируют общение с инопланетянами и... особо замечу, иногда поселяют представителей иных миров в нашем собственном доме. Подобные фантазии, сказки и утопии представляют собой попытки преодоления жесткого познавательного эгоцентризма, которым долгое время страдали и продолжают страдать по сей день научные картины мира.
Немало столетий человечество ищет встреч с носителями иного разума, иной культуры и одновременно страшится этих встреч, не решаясь предсказать их последствия для своей собственной судьбы.
Мне хотелось бы прокомментировать эту тему строчками из финальной сцены спектакля по мотивам пьесы Бертольта Брехта «Добрый человек из Сезуана», который уже в 1960-е подарил многим моим сверстникам печальный свет и добрую надежду на будущее:
Другой герой?
А если мир — другой?
А может, здесь нужны другие боги?
Иль вовсе без богов?
Молчу в тревоге.
Так помогите нам! Беду поправьте
И мысль, и разум свой сюда направьте.
Попробуйте для доброго найти
К хорошему — хорошие пути.
Плохой конец — заранее отброшен.
Он должен, должен, должен быть хорошим.
Чтобы читатель рельефнее почувствовал то, в каком проблемном поле интеллектуальных поединков появляется книга Марии Тендряковой, обращу внимание на недавно переведенную работу классика структурной антропологии Клода Леви-Стросса «Узнавать себя : Антропология и проблема современности» и на книгу спорящего с ним возмутителя антропологического спокойствия, неутомимого бразильского исследователя Эдуарду Вивейруш де Кастру; вот фрагмент из его труда:
«Антропология вполне готова возложить на себя новую миссию и стать теорией-практикой непрерывной деколонизации мышления. Но, возможно, не все мы согласны с этим. Кто-то по-прежнему считает, что антропология — это зеркало общества
В силу того, что в Ином всегда видится Тождественное, — и тогда можно сказать, что под маской другого «мы» созерцаем самих себя, — мы в итоге интересуемся лишь тем, что интересует нас, а именно нами самими.
Но настоящая антропология делает нечто противоположное — она «показывает нам тот образ нас самих, в котором нам себя не узнать», поскольку всякий опыт общения с другой культурой дает нам именно возможность поэкспериментировать с нашей собственной...»
Книга Марии Тендряковой полна неожиданностей. И в культурно-исторической психологии народов автор показывает неведомое — образы нас самих, в которых нам себя не узнать.
Само название «Многообразие типичного» несет в себе импульс развивающегося парадокса.
Мы привыкли, что типичность, статичность, незыблемость, «консервация», инвариантность — в одной комнате нашего сознания; разнообразие, неповторимость, уникальность — в другой комнате сознания. И замысел найти и показать в культурно-исторической психологии народов уникальность типичного, разнообразие типичного, своего рода «ментальную анатомию» разных видов культур выступает как дразнящая задача.
Вокруг перспектив антропологии разгораются нешуточные страсти, поскольку она имеет самое прямое отношение и к пониманию других народов, и к социальным и политическим действиям различных государственных игроков.
Когда исследователи, политики и бизнесмены поглядывают на другие культуры с высоты эволюционного снобизма и европейских культурных эталонов, то расставляют на шкале времени «развитые» и «развивающиеся» страны; описывают «отстающие» и «догоняющие» модернизации; открывают и закрывают «окна» и «форточки» в Европу; проживают синдромы «старших» и «младших» братьев с особым политическим прищуром. Мы наделяем якобы отстающие культуры комплексами неполноценности, провинциальности и периферийности, а свою собственную культуру — «комплексом полноценности» и горделивого цивилизационного величия; чествуем «сходства» и расцениваем как архаику «различия» любых иных культур. Печальным и даже трагичным результатом оказывается резкое падение нашей собственной чувствительности к пониманию, узнаванию и принятию Иного, Другого, непохожего, которое оборачивается всплесками ксенофобии, этнофобии и агрессивного фундаментализма.
Но если заинтересованное внимание к культурно-исторической психологии других народов использовать в качестве точки опоры, то можно приблизиться к раскрепощенности разума, которому получается хоть в какой-то степени освободиться от оков эгоцентризма, преодолеть страхи встреч с Иными и обрести животворный заряд эволюционного оптимизма.
Переживая и проживая вместе с Марией Тендряковой уникальность типичного у других народов, мы постигаем искусство видения перспектив своего настоящего, настоящего нашей культуры. Возвращаясь из нефантастических путешествий во времени и пространстве в свою культуру, мы, надеюсь, начинаем зорче видеть, что творится с нами, какое место мы занимаем в полифонии цивилизаций и как мы можем вести переговоры с теми, в ком нам себя не узнать.
